1-2-3
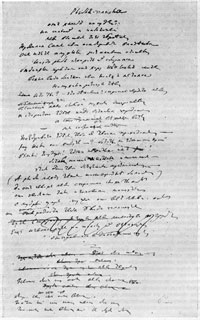
Автограф «Рыбьей пляски»
И. А. Крылова.
|
Крылов негодует на предателей интересов родины — своекорыстных «торгашей», которые, невзирая на пожар, «делят барыши» вместо того, чтобы тушить огонь, охвативший их «общий дом». «Честные торгаши» — это в первую очередь крепостническое дворянство. От взора сатирика не ускользнул шкурный классовый эгоизм «высшего сословия российского», так же как не ускользнула и бездарность иных военных руководителей (басня «Щука и кот» — по поводу неудачного преследования французов адмиралом Чичаговым, его отступления от Борисова). Против вредной доверчивости в отношении врага и его намерений была направлена басня «Волк на псарне».
Демократический патриотизм и чувство национального достоинства не помешали обнаружиться сатирической зоркости Крылова и в сфере изображения нравов и характеров самой разнообразной общественной среды. С поразительной реалистической убедительностью изображена галерея носителей социальных пороков: злобы и клеветы («Змея и овца», «Клеветник и змея», «Мыши»), лицемерия и вероломства («Добрая лисица», «Лев», «Лев, серна и лиса»), хвастовства («Синица», «Туча»), неблагодарности («Крестьянин и работник», «Волк и журавль»), невежества и ограниченности («Мартышка и очки», «Петух и жемчужное зерно», «Осел и соловей», «Свинья под дубом»), лживости и лести («Лжец», «Напраслина», «Ворона и лисица», «Кукушка и петух»), скупости и жадности («Скупой», «Бедный и богач», «Скупой и курица», «Фортуна и нищий»), зависти («Лягушка и вол»), эгоизма («Лягушка и Юпитер», «Волк и лисица») и т. п. Старая история литературы, неправомерно видевшая в Крылове преимущественно бытописателя-моралиста и не желавшая заметить острейшей социально-политической сатиры, естественно должна была сильно преувеличить удельный вес «нравоучительных» басен. Но не следует и преуменьшать их значения. Плоское «моралистическое» толкование многих из них должно быть пересмотрено с учетом основных сатирических принципов и тенденций крыловского творчества в целом. Такое толкование басен — обычно результат забвения их живого, конкретного, актуального смысла. Между тем наиболее проницательные охранители самодержавия и крепостничества никогда не заблуждались на этот счет. Так, за год до смерти великого поэта, попечитель петербургского учебного округа писал министру народного просвещения: «Знаменитый Крылов, изображая пороки людей в своих баснях, метит часто на обстоятельства и события современного общества» (Литературный музеум, стр. 61). В этом все дело. Даже официально признанный и прославленный Крылов всегда оставался в высшей степени «опасным» писателем... А этот писатель не мог не задумываться над вопросом о своем положении в дворянско-крепостническом обществе. На вопрос о положении писателя ответила басня «Соловьи». И нет сомнения, что Крылов, знавший себе цену, вложил в эту басню конкретный автобиографический смысл.
Начавший свою деятельность как литератор радищевского круга, Крылов-баснописец не случайно оставался всегда в стороне от литературных разногласий — карамзинистов и шишковцев, «романтиков» и «классиков». Он состоял в Беседе, но не был «беседчиком». Его хвалили Батюшков («Видение на берегах Леты») и Жуковский (в рецензии на басни), но он не был и арзамасцем. Он занимал особую позицию, с точки зрения которой литературные распри первой четверти XIX в. представлялись мало существенными, не принципиальными.
«Для немногих» — под таким названием Жуковский издавал свои стихи. Это название не было случайным. Оно чрезвычайно ярко и выразительно указывало на социальную природу той «изящной словесности», тех литературных принципов, представителем которых был Жуковский, на ряду с другими писателями. Он писал для немногих. Читательский адрес был точно ограничен «просвещенным» кругом «высшего сословия российского».
Крылов писал для всех. И это было неслыханной новостью. Она поражала простодушного провинциала, брата баснописца — Льва Андреевича: «Читал сочинения г. Жуковского, но он, как мне кажется, пишет только для ученых, и более занимается вздором, а потому слава его весьма ограничена. А также г. Гнедич, человек высокоумный и щеголяет на поприще славы между немногими. — Но как ты... пишешь — это для всех: для молодого и для старого, для ученого и простого...»1 Та же черта была подчеркнута через много лет известным литератором В. Ф. Одоевским на юбилейном чествовании Крылова 1838 г.: «Существуют произведения знаменитые, но доступные лишь тому или другому возрасту, большей или меньшей степени образованности; немного таких, которые близки человеку во всех летах, во всех состояниях его жизни. Ваши стихи во всех концах нашей величественной родины лепечет младенец, повторяет муж, вспоминает старец; их произносит простолюдин... изучает литератор...»2
Крылов был первым общерусским поэтом. До Крылова были писатели для «высшего света» — столичного, в том числе и придворного дворянского круга, для провинциального дворянства, для купечества, для чиновников и мещан и т. д. Рылеев писал по-разному, отдельно для дворян и отдельно для солдатско-крестьянской массы. Были писатели для интеллигенции. Были писатели «для дам». Крылов был первым поэтом, обратившимся своим словом не к отдельным сословиям и общественным группам и даже не к отдельным классам, а к нации. Крылов впервые обратился не к сословной и групповой, а к общерусской аудитории. Понятно, что Крыловское слово оказалось качественно иным, небывалым; так же как и всенародный характер славы баснописца; понятны и неслыханные тиражи прижизненных изданий басен: семьдесят пять тысяч экземпляров в эпоху, когда пять тысяч считались огромным тиражом для стихов.
Это новое слово было словом популярным в строгом и точном смысле. Это новое слово было событием огромной важности в истории нашей литературы. Оно знаменовало собою конец феодально-сословной обособленности и ограниченности литературы и литературного языка и вместе с тем — громадный по своему влиянию шаг по пути развития национальной литературы и национально-литературного языка. Крылов был ближайшим предшественником Пушкина. С исключительной смелостью он вывел поэзию из стен дворянского литературного салона на площадь. Так и сказал один из современников: «Дмитриев ввел басню во дворец, Крылов вывел ее на площадь».3
Сопоставление этих двух имен было сопоставлением двух различных литератур. Даже в тридцатых годах карамзинисты продолжали сопротивляться демократизации художественной литературы и ее языка. «Одного не прощал он, — писал об И. И. Дмитриеве М. А. Дмитриев, — низкого чувства и низкого площадного выражения, которые при нем уже начинались».4
Сам И. И. Дмитриев писал с возмущением Жуковскому в сентябре 1836 г.: «Как не упомянуть и о том, что некто Плаксин на публичных лекциях в Петербурге называет исторический слог Карамзина идиллическим; и дети наши должны ему верить... Межевич недавно в речи своей, произнесенной на торжественном собрании, объявил... что период Карамзина ознаменован совершенным отсутствием народности... Что же такое народность по мнению наших молодых учителей? Писать так, как говорят наши мужики на Сенной и в харчевнях?» (Русский архив, 1870).
Вот почему имя Крылова даже в 30-е годы было для одних знаменем и образцом подлинной народности и в литературе, а для других — неприятным символом демократической порчи дворянского «хорошего вкуса». Вполне закономерным был выпад Каченовского против басни «Свинья», названной в рецензии «презренным сочинением» и «смрадом запачканных нелепостей».5
Неудивительно, что карамзинист Блудов тоже осудил «неэстетический» реализм этой басни. «Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии».6
Неудивительно, что и Вяземский рекомендовал своему сыну для чтения басни Дмитриева, а не Крылова, чтобы «не испортить вкуса». Этот либеральный — в 20-х годах — литератор открыто высказался в письме к А. А. Бестужеву (9 марта 1824 г.): «Крылова уважаю и люблю как остроумного писателя, но в эстетическом, литературном отношении все же поставлю выше его Дмитриева». Годом раньше в статье о Дмитриеве была сделана Вяземским попытка., правда, в несколько завуалированной форме, опорочить историко-литературное значение басен Крылова. Получалось так, что Крылов пришел использовать «выработанный язык» и «готовые» формы, имея «пример поучительный и путеводителя» в лице Дмитриева. При этом Вяземский как бы вскользь и с неудовольствием заметил, что Крылов «дерзнул бороться с Дмитриевым» (Предисловие к 6-му изданию стихотворений И. И. Дмитриева, 1823).
Пушкин решительно выступил в защиту Крылова, сразу же почуяв глубокую принципиальность вопроса. Он писал Вяземскому 8 марта 1824 г.: «И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова». Вяземский не сдавался. По поводу статьи Пушкина о Лемонте (1825), где Крылов был назван «представителем духа русского народа», Вяземский возражал: «Что такое за представительство Крылова... Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское: лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами... Может быть и тут есть черты народные, но по крайней мере не нам признаваться в них...» (письмо Пушкину в октябре 1825 г.). На это высокомерно-либеральное дворянское фрондерство Пушкин ответил: «Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. — В старину наш народ назывался смерд (см. госп. Карамзина)». Так, спор о Крылове заключал в себе по существу спор о путях развития русской художественной литературы. Это был спор об основных литературных принципах: дворянско-аристократических и национально-демократических.
Народность Крылова — разночинца и демократа, пишущего для массы, бесконечно далеко отстояла и от полуфеодальной по своей закваске, шовинистической «народности» шишковцев — членов Беседы с их эпигонами, и от оперной «облагороженной», условно-сентиментальной народности «европейцев» — карамзинистов с их эпигонами. Народность Крылова питалась совершенно иными источниками, иным материалом, иным мировоззрением, иной эстетикой. Источники, питавшие творчество Крылова, били из глубины народной жизни. Дело было не в том, что Крылов «брал сюжеты» из народного быта и пользовался материалом пословиц и поговорок. Это делали и до него многие писатели, особенно в басне. Но Крылов перестроил басню, сообщив ей особый синтетический жанровый характер: это — и злободневная политическая сатира, и глубокая социальная инвектива, и виртуозно сжатая «комедия нравов», и зарисовка народных типов, и философское раздумье — плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». И все же решающее значение имела не жанровая новизна, а национализирующая творческая сила стиля. Замечательно, как преобразовался под пером Крылова заимствованный материал. Известно, что Крылов переводил и перерабатывал чужие басни: Эзопа, Федра, Лафонтена (преимущественно), Флориана, Геллерта, Лессинга и других иностранных авторов. Исследователи указывают на 45 с несомненностью «заимствованных» басен (сам Крылов в издании 1843 г. отметил звездочкой в алфавитном перечне тридцать три басни, которые были «переводом или подражанием»). Так, басня «Лягушки, просящие царя» восходит к басне Лафонтена «Les Grenouilles qui demandent un Roi», a басня «Крестьянин и смерть» — к басне «La Mort et la B?cheron»; басня «Лев и лисица» — перевод Эзоповой басни того же названия, а басня «Алкид» — переделка басни Эзопа «Геракл и Афина» и т. п. Флери7 указывал даже на французский источник «Демьяновой ухи» (басня Ф. Барба «Politesse villageoise). Однако и переведенные и переделанные басни, на ряду с оригинальными, носят тот же характер «национального шедевра», как выразился Флери по поводу «Демьяновой ухи».
Современники Крылова отметили и эту черту — необычайную ассимилирующую силу его стиля: «На мысль не придет, — писал П. А. Плетнев, — что сочинитель повторяет старинную басню, известную уже всем народам, и прикрывает ею общую истину. Рассказываемый им случай, повидимому, только и мог произойти у нас. Он проникнут духом нашей жизни и речи».8 Национальный уклад жизни, русский пейзаж, русские характеры, русский образ мысли и жизненная мудрость народа, запечатлевшаяся в его языке и фольклоре, — вот основа художественного эффекта Крыловских басен. Народность Крылова — это другая сторона реализма его стиля. Первый всенародный поэт, он был в своих баснях и первым последовательным поэтом-реалистом. Басенные аллегории и символы приобрели живую осязательную плоть. Многообразные краски действительной жизни и ее голоса оплодотворили поэзию — их вобрало в себя художественное слово Крылова. Но для этого нужно было по-новому поставить и разрешить проблему языка, который — по меткому определению Маркса — является непосредственной действительностью мысли.
1 В. Кеневич. Материалы для биографии И. А. Крылова. Сборник Отделения русского языка и словесности, т. VI, 1868 стр. 337—338.
2 Журнал Министерства народного просвещения, 1838, ч. 17, кн. 1. — См. также: Н. М. Терновский. И. А. Крылов, историческое общественное и литературное его значение и язык басен, 1896, стр. 81.
3 Русская старина, 1893, июль.
4 М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти, М., 1869, стр. 121.
5 Вестник Европы, 1812, № 4, стр. 305.
6 П. А. Вяземский. Старая записная книжка, 1929, стр. 68.
7 Fleury. Krylov et ses Fables, 1869.
8 Современник, т. IX, 1838, стр. 58.
1-2-3
 Волк и Лисица |  Мальчик и Червяк | |